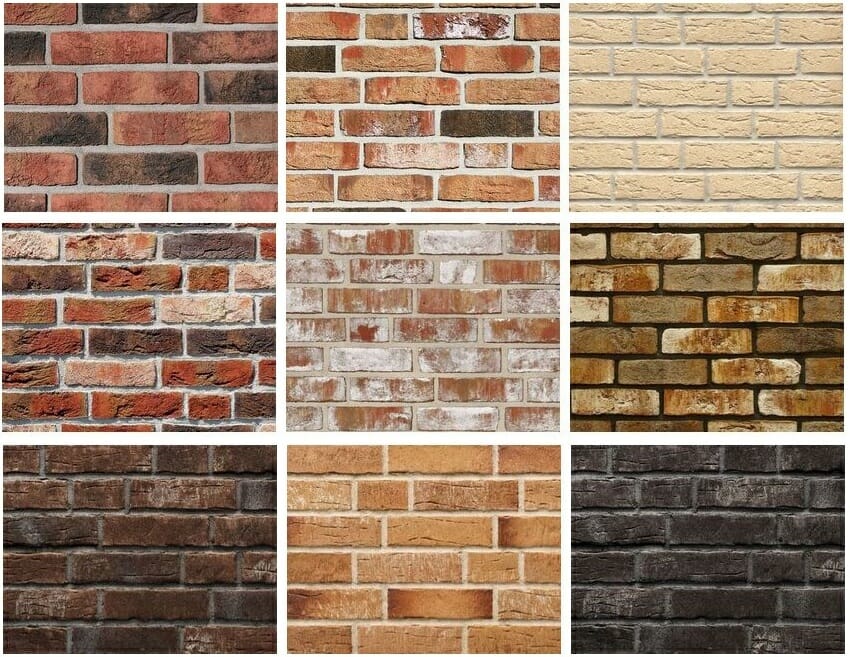ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
В. ВИНДЕЛЬБАНД
.
В. ВИНДЕЛЬБАНД
Названия имеют свою судьбу, но редкое из них имело судьбу
столь странную, как слово “философия”. Если мы обратимся к истории с вопросом
о том, что, собственно, есть философия, и справимся у людей, которых называли и
теперь еще называют философами, об их воззрениях на предмет их занятий, то мы
получим самые разнообразные и бесконечно далеко отстоящие друг от друга ответы;
так что попытка выразить это пестрое многообразие в одной простой формуле и
подвести всю эту неопределенную массу явлений под единое понятие была бы делом
совершенно безнадежным.
Правда, эта попытка предпринималась не раз, в особенности
историками философии; они старались при этом отвлечься от тех различных
определений философии по содержанию, в которых отражается обычное стремление
каждого философа вложить в самую постановку своей задачи сущность добытых им
мнений и точек зрения; таким путем они рассчитывали достигнуть чисто
формального определения, которое не находилось бы в зависимости ни от
изменчивых воззрений данной эпохи и национальности, ни от односторонних личных
убеждений, и потому было бы в состоянии охватить все, что когда-либо
называлось философией. Но будет ли при этом философия названа жизненной
мудростью, или наукой о принципах, или учением об абсолютном, или самопознанием
человеческого духа, или еще как-нибудь, всегда определение окажется либо
слишком широким, либо слишком узким; всегда именно в истории найдутся учения,
которые носят название философии и все же не подходят под тот или иной из
установленных формальных признаков этого понятия.
Прежде всего… нам придется посчитаться с утверждением, что
высшим понятием по отношению к философии служит понятие науки. Было бы
неправильно возражать против этого утверждения, что в таком случае родовое
понятие по временам сливается с видовым, как это было, например, в начале
греческой мысли, где именно и была налицо только одна всеобщая наука, или позднее
в те периоды, когда универсалистическая тенденция Декарта или Гегеля признавала
остальные “науки” только постольку, поскольку их можно было сделать частями
философии. Это доказывало бы лишь непостоянство соотношения между
рассматриваемыми родом и видом, но не опровергало бы научного характера
философии. Точно так же нельзя опровергнуть включение философии в понятие
науки указанием на то, что в большинстве философских учений встречаются
совершенно ненаучные элементы и ходы мыслей. Этим мы также доказали бы только,
как мало философия до сих пор разрешила свою задачу, и в параллель к этому
можно было бы привести аналогичные явления из истории других “наук”, как
например мифологическую эпоху в истории, алхимистический детский период химии
или период астрологических мечтаний в астрономии. Таким образом, несмотря на
свои несовершенства, философия заслуживала бы названия науки, если бы можно
было установить, что все то, что зовется философией, имеет стремление быть
наукой и, при правильном разрешении своей задачи, может стать ею. Но этого-то и
нет на деле. Подобная характеристика философии стала бы уже сомнительной, если
бы можно было показать — а это можно показать и уже было показано,— что задачи,
которые ставят себе философы, и притом не попутно, а считая их своей главной
целью, ни в коем случае не могут быть разрешены путем научного познания. Если
справедливо утверждение о невозможности научного обоснования метафизики —
утверждение, впервые выставленное Кантом и затем выступавшее в самых различных
формах,— то этим из пределов “науки” исключаются все те “философии”, которым
присуща метафизическая тенденция, а последняя, как известно, обнаруживается не
только во второстепенных явлениях истории философии, но и в тех ее высших
точках, имена которых знакомы всякому.
Но даже это субъективное притязание на научный характер
философии не может быть признано чертой, общей всем ее представителям. Многие
из них ценят научный элемент в лучшем случае только как более или менее
необходимое средство к собственной цели философии: кто видит в последней
искусство правильной жизни, как, например, философы эллинской и римской эпохи,
тот уже не ищет в ней, как это подобает науке, знания ради знания; и если,
таким образом, тут имеется только позаимствование у научного мышления, то
наукой такое позаимствование может быть названо одинаково мало, совершается ли
оно с целями техническими, или политическими, или моральными, или религиозными,
или какими-нибудь иными. Но даже среди тех, для кого философия есть познание,
многие ясно сознают, что они не могут достигнуть этого познания путем научного
исследования: не говоря уже о мистиках, для которых вся философия есть одно
откровение,— как часто повторяется признание, что последние корни философских
убеждений не содержатся в научных доказательствах! То совесть с ее
требованиями, то разум, как восприятие неисповедимых глубин жизни, то
искусство, как образец для философии, то гениальное овладение темой,
непосредственная “интуиция”, то, наконец, божественное откровение объявляются
той почвой, на которую должна закинуть свой якорь философия в волнах научного
движения: ведь сознается же нередко Шопенгауэр — человек, которого многие современники
почитают как философа par excellence,— что его учение, не добытое и не
доказуемое путем методической работы мысли, раскрывается только перед
всеобъемлющим “взором”, который, созерцая сразу плоды научного познания,
философски уясняет их.
Итак, есть много оснований, почему философия не может быть
так легко подведена под понятие науки, как это себе обыкновенно представляют
под влиянием внешних условий проявления философской мысли и ходячей
терминологии. Конечно, каждый может создать себе такое понятие философии,
которое допускает это подведение; это часто бывало, это всегда будет
повторяться, и это мы сами попытаемся сделать. Но если рассматривать философию
как реальный исторический продукт, если сравнить между собой все то, что в
духовном развитии европейских народов называлось философией, то это подведение
недопустимо. Сознание этой истины обнаруживается в различных формах. В самой
истории философии оно выражается в том, что от времени до времени постоянно
возникает стремление “возвысить, наконец, философию до уровня науки”. В связи с
этим стоит и то явление, что где бы ни разгорался спор между философскими
направлениями, всегда каждое из них склонно приписывать только себе одному
характер науки и отрицать его в воззрениях противного направления. Различие
между научной и ненаучной философией есть излюбленная с глубокой старины
полемическая фраза. Платон и Аристотель впервые противопоставили свою философию
в качестве науки (epistema) софистике как ненаучному, полному непроверенных
предпосылок мнению (doxa); ирония истории пожелала, чтобы теперь это
соотношение было вывернуто наизнанку: позитивистские и релятивистские
представители современной софистики имеют обыкновение противопоставлять свое
учение в качестве “научной философии” тем, кто еще бережет великие плоды
греческой науки. Но и из не участвующих в этом споре лиц не признают философию
наукой те, кто видят в ее истории только “историю человеческих заблуждений”.
Наконец, и тот, кто из-за плоского высокомерия современного всезнайства не
потерял еще уважения к истории, кто еще способен преклоняться перед образами
великих философских систем, все же должен будет признать, что дань его чувства
заслуживает отнюдь не всегда научное значение этих систем, а либо энергия
благородного миросозерцания, либо художественная гармонизация противоречивых
идей, либо широта объемлющего мир созерцания, либо, наконец, творческая мощь
связующей работы мысли.
И действительно, факты истории требуют воздержания от столь
широко распространенного безусловного подчинения философии понятию науки.
Непредубежденный взор историка признает; философию, наоборот, сложным и
изменчивым культурным явлением, которое нельзя просто втиснуть в какую-либо
схему или рубрику; он поймет, что в этом ходячем подчинении философии науке
содержится несправедливость как по отношению к философии, так и по отношению к
науке: по отношению к первой, так как этим ставятся слишком узкие границы для
ее уходящих вширь стремлений — по отношению ко второй, так как на нее
возлагается ответственность за все, что воспринимает в себя философия из
многочисленных других источников.
Как самим словом, так и первым значением философии —
philosophia — мы обязаны грекам. Став во времена Платона, по-видимому,
техническим термином, это слово означало как раз то, что мы теперь обозначаем
словом “наука” *. Это есть имя,
которое получило только что родившееся дитя. Мудрость, которая в форме древних
мифических сказаний переходит от поколения к поколению, нравственные учения,
житейское благоразумие, которое, накопляя опыт за опытом, облегчает новому
поколению жизненный путь, практические знания, найденные в борьбе за
существование при разрешении отдельных задач и с течением времени
превратившиеся в солидный запас знания и умения,— все это с незапамятных времен
существовало у всякого народа и во всякую эпоху. Но “любознательность”
освобожденного от жизненной нужды культурного духа, который в благородном
покое начинает исследовать, чтобы приобретать знание ради самого знания, без
всякой практической цели, без всякой связи с религиозным утешением или
нравственным возвышением, и наслаждаться этим знанием, как абсолютной, от
всего прочего не зависимой ценностью,— эту чистую жажду знания впервые обнаружили
греки, и этим они стали творцами науки. Как “инстинкт игры”, так и инстинкт познания
они извлекли из покровов мифических представлений, освободили от подчинения
нравственным и повседневным потребностям, и тем возвели как искусство, так и
науку, на степень самостоятельных органов культурной жизни. В фантастической
расплывчатости восточного быта зачатки художественных и научных стремлений
вплетались в общую ткань недифференцированной жизни: греки, как носители
западного начала, начинают разделять неразделенное, дифференцировать неразвитые
зародыши и устанавливать разделение труда в высших областях деятельности
культурного человечества. Таким образом, история греческой философии есть
история зарождения науки: в этом ее глубочайший смысл и ее непреходящее
значение. Медленно отрешается стремление к познанию от той общей основы, к
которой оно было первоначально прикреплено; затем оно сознает само себя,
высказывается гордо и надменно и достигает наконец своего завершения, образовав
понятие науки с полной ясностью и во всем его объеме. Вся история греческой
мысли, от размышления Фалеса о последней основе вещей вплоть до логики Аристотеля,
составляет одно великое типичное развитие, темой которого служит наука.
Эта наука направлена поэтому на все, что вообще способно или
кажется способным стать объектом познания: она обнимает всю вселенную, весь
представляемый мир. Материал, над которым оперирует ставшее самостоятельным
стремление к познанию и который содержится в мифологических сказаниях
древности, в правилах жизни мудрецов и поэтов, в практических знаниях делового,
торгового народа,— весь этот материал еще так невелик, что легко укладывается в
одной голове и поддается обработке посредством немногих основных понятий. Таким
образом, философия в Греции есть единая неразделенная наука.
Но начавшийся процесс дифференциации не может на этом остановиться.
Материал растет, и перед глазами познающего и систематизирующего разума он
расчленяется на различные группы предметов, которые, как таковые, требуют
различных приемов обсуждения. Философия начинает делиться: из нее выделяются
отдельные “философии”, каждая из которых требует уже для себя работы всей жизни
мыслителя. Греческий дух вступает в век специальных наук. Но если каждая из
них получает особое название по своему предмету, то куда девается общее
название “философии”?
Оно сохраняется сначала за более общими данными познания.
Могучий систематизирующий дух Аристотеля, в котором совершился этот процесс
дифференциации, создал, наряду с другими науками, также и “первую философию”,
т. е. науку об основах, впоследствии названную метафизикой и изучавшую высшую и
последнюю связь всего познаваемого; все созданные при разрешении отдельных
научных задач понятия соединялись здесь в общее учение о Вселенной, и за этой
высшей, всеобъемлющей задачей сохранилось поэтому то название, которое
принадлежало единой общей науке.
Однако одновременно с этим сюда привступил другой момент,
источники которого лежали не в чисто научном развитии, а в общем культурном
движении времени. Описанное разделение научного труда совпало с эпохой падения
греческой национальности. Место отдельных национальных культур заняла единая
мировая культура, в пределах которой греческая наука хотя и служила
существенным связующим звеном, но все же должна была отступить перед другими
потребностями или стать на службу к ним. Греческая национальность сменилась
эллинизмом, эллинизм — Римской империей. Подготовлялся огромный социальный
механизм, поглощавший национальную жизнь с ее самостоятельными интересами,
противопоставлявший личность как бесконечно малый атом некоторому чуждому и
необозримому целому и, наконец, благодаря обострению общественной борьбы заставлявший
личность стать как можно более независимой и спасти от шумного брожения времени
возможно больше счастья и довольства в тиши внутренней жизни. Где судьбы
внешнего мира шумно текли, разрушая на пути целые народы и великие державы,
там, казалось, только во внутренней жизни личности можно было найти счастье и
радость, и потому вопрос о правильном устроении личной жизни стал для лучших
людей времени важнейшим и насущнейшим. Жгучесть этого интереса ослабила чистую
жажду знания: наука ценилась лишь постольку, поскольку она могла служить этому
интересу, и указанная “первая философия” с ее научной картиной мира казалась
нужной лишь для того, чтобы узнать от нее, какое положение занимает человек в
общей связи вещей и как, соответственно тому, должен он устроить свою жизнь.
Тип этой тенденции мы видим в стоическом учении. Подчинение знания жизни есть
характерная черта того времени, и для него поэтому философия стала означать
руководство в жизни и упражнение в добродетели. Наука не есть более самоцель;
она есть благороднейшее средство, ведущее к счастью. Новый орган человеческого
духа, развитый греками, вступает в продолжительный период служебного
отношения.
С веками он меняет своего господина. В то время как специальные
науки стали служить отдельным социальным потребностям — технике, искусству
обучения, искусству врачевания, законодательству и т. д., философия оставалась
той общей наукой, которой надлежало учить, как человеку достигнуть одновременно
и счастья и добродетели. Но чем далее тянулось это состояние мира, чем сильнее
дичало общество в жажде наслаждения и беспринципности, тем более надламывалась
гордость добродетельных, и тем безнадежнее становилась стремление к личному
счастью. Земной мир, со всем его блеском и радостями, глохнет, и идеал все
более переносится из сферы земного в иную, более высокую и более чистую
область. Этическая мысль превращается в религиозную, и “философия” отныне
означает Богопознание. Весь аппарат греческой науки, ее логическая схема, ее
система метафизических понятий кажутся предназначенными лишь к тому, чтобы
выразить в познавательной форме религиозное стремление и убеждения веры. В
теософии и теургии 21, которые из мятущегося переходного времени переносятся в
средневековую мистику, этот новый характер философии сказывается не менее чем в
той упорной работе мысли, при посредстве которой три великие религии старались
ассимилировать греческую науку. В этой форме в качестве служанки веры мы
встречаемся с философией в течение долгих, тяжелых ученических годов германских
народов: стремление к познанию слилось с религиозным стремлением и наряду с
последним не имеет самостоятельных прав. Философия есть попытка научного
развития и обоснования религиозных убеждений.
В освобождении от этого абсолютного господства религиозного
сознания содержатся корни современной мысли, заходящие далеко в глубь так
называемых средних веков. Стремление к знанию делается снова свободным, оно
познает и утверждает свою самостоятельную ценность. В то время как социальные
науки идут своим собственным путем, с отчасти совершенно новыми задачами и
приемами, философия находит вновь в идеалах Греции чистое знание ради него
самого. Она отказывается от своего этического и религиозного назначения и
снова становится общей наукой о мире, познание которого она хочет добыть, не
опираясь ни на что постороннее, из себя самой и для себя самой. “Философия”
становится метафизикой в собственном смысле слова, все равно, воспроизводит ли
она системы великих греков, или путем фантастических комбинаций смело
продумывает до конца новые воззрения, добытые открытиями времени, идет ли она
в строгую школу древней и почтенной, но все еще молодой науки математики, или
хочет осторожно созидать себя на данных нового естествознания. Так или иначе
она хочет, независимо от разногласия религиозных мнений, дать самостоятельное,
основанное на “естественном” разуме, познание мира и, таким образом,
противопоставляет себя вере, как “светское знание”.
Однако наряду с этим метафизическим интересом с самого же
начала выступает другой интерес, который постепенно приобретает перевес над
первым. Зародившись в оппозиции к опекаемой церковью науке, эта новая философия
должна прежде всего показать, как она хочет создать свое новое знание. Она
исходит из исследований о сущности науки, о процессе познания, о приспособлении
мышления к его предмету. Если эта тенденция носит вначале характер
методологический, то она постепенно все более превращается в теорию познания.
Она спрашивает уже не только о путях, но и о границах познания. Противоречие
между метафизическими системами, учащающееся и обостряющееся как раз в это
время, приводит к вопросу о том, возможна ли вообще метафизика,— т. е. имеет
ли философия, наряду со специальными науками, свой собственный объект, свое
право на существование. И на этот вопрос дается отрицательный ответ! Тот самый
век, который в гордом упоении знанием мечтал построить историю человечества,
опираясь на свою философию,— восемнадцатый век,— он узнает и признает, что сила
человеческого знания недостаточна для того, чтобы охватить вселенную и
проникнуть в последние основы вещей. Нет больше метафизики — философия сама
разрушила себя. К чему нужно еще ее пустое имя? Все отдельные предметы розданы
особым наукам — философия подобна поэту, который опоздал к дележу мира. Ибо
сшивать в одно целое лоскутья последних выводов специальных наук далеко не
значит познавать вселенную; это есть трудолюбивое накопление знаний или
художественное их комбинирование, но не наука. Философия подобна королю Лиру,
который роздал своим детям все свое имущество и которого вслед за тем, как
нищего, выбросили на улицу, Однако где нужда сильнее всего, там ближе всего и
помощь. Если удалось показать, что философия, стремившаяся быть метафизикой,
невозможна, то именно из этих исследований возникла новая отрасль знания,
нуждающаяся в имени. Пусть все остальные предметы без остатка разделены между
специальными науками, пусть окончательно погибла надежда на науку миропознания
— но сами эти науки суть факт, и, быть может, один из важнейших фактов жизни, и
они хотят в свою очередь стать объектом особой науки, которая бы относилась к
ним так, как они сами — к остальным вещам. Наряду с другими науками выступает,
в качестве особой, строго определенной дисциплины, теория науки. Если она и не
есть миропознание, объемлющее все остальные знания, то она есть самопознание
науки, центральная дисциплина, в которой все остальные науки находят свое
обоснование. На это “науко-учение” (“Wissenschaftslehre”) переносится название
философии, потерявшее свой предмет; философия не есть более учение о вселенной
или о человеческой жизни — она есть учение о знании, она — не “метафизика
вещей”, а “метафизика знания”.
Если присмотреться поточнее к судьбе, пережитой, таким образом,
значением названия “философия” в течение двух тысячелетий, то окажется, что
философия далеко не всегда была наукой и, даже когда хотела быть наукой, далеко
не была постоянно направлена на один и тот же объект; но вместе с тем окажется,
что она всегда стояла в определенном отношении к научному познанию и — что
всего важнее — что судьба этого отношения основана на эволюции той оценки,
которая в развитии европейской культуры выпадала на долю научного познания.
История названия “философия” есть история культурного значения науки. Когда
научная мысль утверждает себя в качестве самостоятельного стремления к познанию
ради самого знания, она получает название философии; когда затем единая наука
разделяется на свои ветви, философия есть последнее, заключительное обобщающее
познание мира. Когда научная мысль опять низводится на степень средства к
этическому воспитанию или религиозному созерцанию, философия превращается в
науку о жизни или в формулировку религиозных убеждений. Но как только научная
жизнь снова освобождается, философия также приобретает вновь характер
самостоятельного познания мира, и когда она начинает отказываться от разрешения
этой задачи, она преобразует самое себя в теорию науки.
Итак, будучи сначала вообще единой неразделенной наукой, философия,
при дифференцированном состоянии отдельных наук, становится отчасти органом,
соединяющим результаты деятельности всех остальных наук в одно общее познание,
отчасти проводником нравственной или религиозной жизни, отчасти, наконец, тем
центральным нервным органом, в котором должен доходить до сознания жизненный
процесс всех других органов. Составляя первоначально саму науку и всю науку,
философия есть позднее либо резюме всех отдельных наук, либо учение о том, на
что нужна наука, либо, наконец, теория самой науки. Смысл, влагаемый в название
философии, всегда характерен для положения, которое занимает научное познание в
ряду культурных благ, ценимых данной эпохой. Считают ли его абсолютным благом
или только средством к высшим целям, доверяют ли ему изыскание последних
жизненных основ вещей или нет — все это выражается в том смысле, который
соединяется со словом “философия”. Философия каждой эпохи есть мерило той
ценности, которую данная эпоха приписывает науке: именно потому философия
является то самой наукой, то чем-то, выходящим за пределы науки, и, когда она
считается наукой, она то охватывает весь мир, то есть исследование о сущности
самого научного познания. Поэтому, сколь разнообразно положение, занимаемое
наукой в общей связи культурной жизни, столь же много форм и значений имеет и
философия, и отсюда понятно, почему из истории нельзя было вывести какого-либо
единого понятия философии.
Виндельбанд В. Прелюдии.
Философские статьи и речи.
Спб., 1904. С. I—
.